Вспомнить всё...

«Молитва Лейлы» – пятая картина режиссера Сатыбалды Нарымбетова и вторая из задуманной им «поколенческой» тетралогии – «казахиады»: он хочет последовательно, десятилетие за десятилетием, срез за срезом, воссоздать на пленке казахский мир второй половины XX века. Первый его опыт – «Жизнеописание юного аккордеониста», где пятидесятые годы показаны глазами маленького мальчика, – был более чем удачен. Фильм тепло приняли и критики, и зрители. «Молитва Лейлы» – это мироощущение девочки-подростка в шестидесятые годы. Семидесятые, по замыслу режиссера, будут представлены взглядом юноши, а восьмидесятые – с позиций уже вполне зрелого человека. Все сценарии, по словам Нарымбетова, уже написаны и лишь ждут своего воплощения на экране. Замысел более чем актуальный: ведь эти пласты времени казахским игровым кино еще не отработаны, существует только советская версия тех лет – типичный идеологический продукт. И то, что режиссер взялся заполнить эту нишу, согласитесь, говорит не только о его художнической, но и гражданской позиции.
Более того, творчество Нарымбетова в самом деле востребовано нынешним казахстанским обществом. Он – один из немногих наших режиссеров, чье кино можно назвать народным – оно соответствует ожиданиям масс, жаждущих реабилитации своей истории. Успех «Жизнеописания юного аккордеониста» был тому ярким подтверждением. Мир пятидесятых казахской глубинки предстал перед нами таким, каким он и был, – бесконечно печальным и, тем не менее, невероятно обнадеживающим. И картина Нарымбетова была не калькой с действительности, а подлинной материей жизни – словно птица-реальность сама попалась в силки к режиссеру!
«Молитва Лейлы» – продолжение и углубление темы в том же жанре апокрифа, который избрал для себя режиссер в «Жизнеописании…». История линейна. Это год жизни героини из аула Дегелен Семипалатинской области, где регулярно проходят испытания атомных боеголовок. Рассказ построен от первого лица. Автор растворен в своей героине – Лейле, и лишь в эпиграфе и послесловии он эмансипируется от нее. Фильм начинается и заканчивается молитвой Лейлы. В начале это молитва за упокой степи, у каменного истукана и у могилы родителей, в конце – за здравие, но уже с младенцем на руках, в собственном доме, за окном которого – родной аул. В начале фильма Лейле четырнадцать, в конце – пятнадцать.
_ayd0.jpg) История проста и бесхитростна: почти бытовое, день за днем, неспешно-повествовательное описание жизни аула и самой Лейлы. С пяти лет – после смерти родителей – она живет у удочерившей ее младшей сестры отца, вдовы фронтовика – тети Катиры. Тетка души в ней не чает, Лейла отвечает ей взаимностью, и хотя и случаются у них недоразумения, в целом они ладят. Лейла, пастушка-простушка, каждый день бодро трусит по аулу на своем ослике (вернее, ослихе – осленок рядом), выгоняя домашнюю отару на выпас – со всеми здоровается, ко всем она с добром, и, кажется, все ей отвечают взаимностью, да и как ее не пожалеть: сирота-хромоножка, блаженная к тому же, все грезит о чем-то, одни фантазии на уме. Впрочем, что с того? Тут у каждого своя блажь, гляньте – вот один такой по имени Нишан: день-деньской с гаишным жезлом торчит на дороге, регулируя несуществующее здесь уличное движение, – так что все нормально… Весь аул Дегелен живет этой пасторальной жизнью в каждодневных хлопотах и заботах. И все бы слава Богу, если бы не рев военных грузовиков, которые со зловещей регулярностью появляются в Дегелене, чтобы вывезти аборигенов на время испытаний. Правда, потом их неизменно возвращают в родные дома. От взрывов, которые производят военные, у каждого здесь что-то да болит. Зато за причиненные неудобства каждый раз в качестве компенсации дегеленцам выдают редкие в этих местах колбасу и консервы, так что грех жаловаться. Правда, народ здесь в самом деле стал какой-то хлипкий. Время от времени сельчан возят в город, на обследование. Только диагноз всем ставят одинаковый – бруцеллез. А это, как известно, зараза, которая передается людям от домашнего скота. То есть получается, что сами в своих хворях виноваты.
Лейлу в военном вертолете тоже увозят на обследование. Из больницы она убегает и возвращается в родной аул, где вскорости рожает мальчика. Был до того у нее момент отчаяния – в петлю даже полезла от косых взглядов и безысходности, но – спасли. Даром, что ли, ее здесь блаженной зовут: от взгляда Лейлы струны лопаются, кони дыбом встают, птица замертво падает, она ведь и военные грузовики пыталась взглядом остановить. Но что против мощи империи взгляд непорочной девы? После рождения сына остается только одно: смирение да молитва…
Сам режиссер на вопрос, о чем его фильм, отвечает: о пастушке, потерявшей свою пастораль. И как бы именно эту историю он нам рассказывает, и мы как зачарованные следуем за его Лейлой, что на своем ослике неспешно трусит по Дегелену, и фиксируем то,. что видит она: вот поздоровалась с тетками-монтершами, и нам приоткрывается краешек – но только сам краешек! – их жизни; заглядывает в соседний двор, берет на руки малыша – фрагмент еще одной истории; мимоходом заворачивает в другой двор – еще кусок чьей-то жизни… Вот так – фрагмент к фрагменту, стеклышко к стеклышку – составляется мозаика. Вблизи не поймешь, что к чему, все сливается, а чуть отойдешь, и ясно очерчивается каждый узор. Отсылка к Библии, эпосу, мифу прозрачны, словно перед нами кроссворд для пятиклассника: все отгадки даются без труда. Картинки с натуры – как с холста передвижника – реально-бытовые, народно-хороводные. Да, вот так и жили всем колхозом – кукурузу сажали, твист танцевали, незлобно переругивались, вместе ели-пили, детей рожали, в армию сыновей провожали, все как у всех. Все песни и прибаутки известны, каждый может их продолжить. У вас разве не так было? Значит, вы вообще в другой стране жили… А Дегелен – типичный сколок казахского аула шестидесятых. Население тут большей частью местное. Одинокие тетки как привыкли, видать, еще с войны, тянуть мужскую лямку, так и тянут ее по сей день: Катира водит разбитый грузовик, Тумар и Зауреш – монтеры, одна сгорает прямо на столбе, починяя проводку во время грозы, другая воспитывает сына-калеку. Парень беззаветно любит Лейлу, вынимает ее из петли, спасает от насильника, замечательно поет и играет на домбре, но и сам считает, что он не Меджнун. И не пойдет наша Лейла замуж за безногого. Она любит другого, которого в армию забирают, а он – не дурак, чтобы снова в эту дыру после службы возвращаться… Что тут делать молодым? Вон слоняются по аулу трое парней, одна у них только забота – где бы и как выпить. Старухи воспитывают внуков, а дети давно подались в город… Старики, тетки да дети – основной тут контингент. И еще, конечно же, ссыльные. В каждом ауле была такая категория граждан – со всех концов страны везли сюда эшелонами репрессированных, уже отсидевших свой срок в ГУЛАГе. В Дегелене это Исаак и Герольд. Шут и балагур, грузинский еврей Исаак, над чьей фамилией – Гольдблат – подтрунивает весь аул. Неведомо как женившийся на миллионерше с дивным именем Аспазия, он через радиорубку с утра до вечера приобщает местный народ к классической музыке – у Исаака целый набор граммофонных записей. И хобби у него экстравагантное: он строгает лесенки-стремянки, которые аккурат под углом 45 градусов устанавливает на местном кладбище над бесхозными могилами, твердо веря, что таким образом помогает душам усопших поскорее добраться до небес. Сам он денно и нощно мечтает о земле предков, о Иерусалиме, даже неясно представляя, где тот град Небесный на грешной земле находится. С Лейлы он берет слово, что и над его могилой она водрузит такую же стремянку. Та творит свою мусульманскую молитву, а жена Аспазия обращается о спасении его души к… Пресвятой Деве Марии – поистине все смешалось в нашем советском ауле!
История проста и бесхитростна: почти бытовое, день за днем, неспешно-повествовательное описание жизни аула и самой Лейлы. С пяти лет – после смерти родителей – она живет у удочерившей ее младшей сестры отца, вдовы фронтовика – тети Катиры. Тетка души в ней не чает, Лейла отвечает ей взаимностью, и хотя и случаются у них недоразумения, в целом они ладят. Лейла, пастушка-простушка, каждый день бодро трусит по аулу на своем ослике (вернее, ослихе – осленок рядом), выгоняя домашнюю отару на выпас – со всеми здоровается, ко всем она с добром, и, кажется, все ей отвечают взаимностью, да и как ее не пожалеть: сирота-хромоножка, блаженная к тому же, все грезит о чем-то, одни фантазии на уме. Впрочем, что с того? Тут у каждого своя блажь, гляньте – вот один такой по имени Нишан: день-деньской с гаишным жезлом торчит на дороге, регулируя несуществующее здесь уличное движение, – так что все нормально… Весь аул Дегелен живет этой пасторальной жизнью в каждодневных хлопотах и заботах. И все бы слава Богу, если бы не рев военных грузовиков, которые со зловещей регулярностью появляются в Дегелене, чтобы вывезти аборигенов на время испытаний. Правда, потом их неизменно возвращают в родные дома. От взрывов, которые производят военные, у каждого здесь что-то да болит. Зато за причиненные неудобства каждый раз в качестве компенсации дегеленцам выдают редкие в этих местах колбасу и консервы, так что грех жаловаться. Правда, народ здесь в самом деле стал какой-то хлипкий. Время от времени сельчан возят в город, на обследование. Только диагноз всем ставят одинаковый – бруцеллез. А это, как известно, зараза, которая передается людям от домашнего скота. То есть получается, что сами в своих хворях виноваты.
Лейлу в военном вертолете тоже увозят на обследование. Из больницы она убегает и возвращается в родной аул, где вскорости рожает мальчика. Был до того у нее момент отчаяния – в петлю даже полезла от косых взглядов и безысходности, но – спасли. Даром, что ли, ее здесь блаженной зовут: от взгляда Лейлы струны лопаются, кони дыбом встают, птица замертво падает, она ведь и военные грузовики пыталась взглядом остановить. Но что против мощи империи взгляд непорочной девы? После рождения сына остается только одно: смирение да молитва…
Сам режиссер на вопрос, о чем его фильм, отвечает: о пастушке, потерявшей свою пастораль. И как бы именно эту историю он нам рассказывает, и мы как зачарованные следуем за его Лейлой, что на своем ослике неспешно трусит по Дегелену, и фиксируем то,. что видит она: вот поздоровалась с тетками-монтершами, и нам приоткрывается краешек – но только сам краешек! – их жизни; заглядывает в соседний двор, берет на руки малыша – фрагмент еще одной истории; мимоходом заворачивает в другой двор – еще кусок чьей-то жизни… Вот так – фрагмент к фрагменту, стеклышко к стеклышку – составляется мозаика. Вблизи не поймешь, что к чему, все сливается, а чуть отойдешь, и ясно очерчивается каждый узор. Отсылка к Библии, эпосу, мифу прозрачны, словно перед нами кроссворд для пятиклассника: все отгадки даются без труда. Картинки с натуры – как с холста передвижника – реально-бытовые, народно-хороводные. Да, вот так и жили всем колхозом – кукурузу сажали, твист танцевали, незлобно переругивались, вместе ели-пили, детей рожали, в армию сыновей провожали, все как у всех. Все песни и прибаутки известны, каждый может их продолжить. У вас разве не так было? Значит, вы вообще в другой стране жили… А Дегелен – типичный сколок казахского аула шестидесятых. Население тут большей частью местное. Одинокие тетки как привыкли, видать, еще с войны, тянуть мужскую лямку, так и тянут ее по сей день: Катира водит разбитый грузовик, Тумар и Зауреш – монтеры, одна сгорает прямо на столбе, починяя проводку во время грозы, другая воспитывает сына-калеку. Парень беззаветно любит Лейлу, вынимает ее из петли, спасает от насильника, замечательно поет и играет на домбре, но и сам считает, что он не Меджнун. И не пойдет наша Лейла замуж за безногого. Она любит другого, которого в армию забирают, а он – не дурак, чтобы снова в эту дыру после службы возвращаться… Что тут делать молодым? Вон слоняются по аулу трое парней, одна у них только забота – где бы и как выпить. Старухи воспитывают внуков, а дети давно подались в город… Старики, тетки да дети – основной тут контингент. И еще, конечно же, ссыльные. В каждом ауле была такая категория граждан – со всех концов страны везли сюда эшелонами репрессированных, уже отсидевших свой срок в ГУЛАГе. В Дегелене это Исаак и Герольд. Шут и балагур, грузинский еврей Исаак, над чьей фамилией – Гольдблат – подтрунивает весь аул. Неведомо как женившийся на миллионерше с дивным именем Аспазия, он через радиорубку с утра до вечера приобщает местный народ к классической музыке – у Исаака целый набор граммофонных записей. И хобби у него экстравагантное: он строгает лесенки-стремянки, которые аккурат под углом 45 градусов устанавливает на местном кладбище над бесхозными могилами, твердо веря, что таким образом помогает душам усопших поскорее добраться до небес. Сам он денно и нощно мечтает о земле предков, о Иерусалиме, даже неясно представляя, где тот град Небесный на грешной земле находится. С Лейлы он берет слово, что и над его могилой она водрузит такую же стремянку. Та творит свою мусульманскую молитву, а жена Аспазия обращается о спасении его души к… Пресвятой Деве Марии – поистине все смешалось в нашем советском ауле!
_oauq.png) Немец Герольд, он же Гера, от души со всеми поет «Огней так много золотых на улицах Саратова…». В общем, живут – не тужат, все со всеми уживаются, даже свой соглядатай-доносчик в Дегелене имеется – ну а где их нет? В речах здесь все вольны – хотя и оглядываются, и голос понижают, знают – Система бдит, вон двоих шахматистов средь бела дня забрали и увезли, но все же главный тиран умер, и это чувствуется: Гере, к примеру, пришло разрешение на выезд в Германию всей семьей, на антисоветские брюзжания Исаака никто и внимания не обращает – что взять со старика? И вообще, кто в космос-то первым полетел? «Мы – советские! Наш человек в космосе!» – ликует-радуется безногий, а чумазая малышня (средь лиц – ни одного славянского) горланит песню «Хотят ли русские войны?». Войны никто не хочет, но военные приезжают и взрывов отменять не собираются, и русские лица здесь – исключительно военное начальство да медперсонал… На русском говорит практически весь аул, одни только старики мешают здесь казахские слова с русскими – для остальных это также естественно, как дышать. Мы ведь все становились советскими людьми, той самой единой исторической общностью. Мы в едином строю шли к великой цели…
Есть один план в фильме (подозреваю, что он взят из хроники тех лет, то есть это реальный документальный план), который в контексте авторского замысла представляется ключевым: с экрана прямо на нас, бессмысленно тупо смотрят овцы, специально оставленные в загоне во время испытаний бомбы. На безответной скотине испытывали смертоносную силу взрыва. Так и люди здесь. жители аула Дегелен, те же бессильные и беззащитные овечки, агнцы божьи, предназначенные на заклание. В отличие от четвероногих, они понимают, что стали материалом для экспериментов ученых вояк, но поскольку за теми стоит само Государство, протестовать и сопротивляться бесполезно. Самое большое, на что их хватает, – это прятаться да огрызаться, как загнанные собаки, и уповать на Бога.
Фильму предпослан эпиграф из Книги назиданий: «Ни один народ не исчезнет из-за вражды людей, забывших, что по роду своему все они братья и сестры. Не дано людям убить то, что создано Свыше». Весь строй картины, однако, говорит об обратном – еще как, оказывается, дано! Ведь мечта – построение рая на земле – вот-вот сбудется, новый вождь заявил, что следующее поколение наших людей будет жить при коммунизме. Для реализации такой мечты ничего не жаль. Уже весь мир, глядя на нас, убедился: мы действительно рождены, чтобы сказку сделать былью. На то мы и великий советский народ…
«Сотни тысяч людей своим благополучием обязаны регулярному жертвоприношению» – так вроде бы написано в старинной китайской «Книге обрядов». Но есть жертвоприношение – как сакральный акт и жертвоприношение – как насилие. Когда оно совершается по велению Бога и угодно ему, оно приносит мир и благословение, в противном же случае приводит к убийству и проклятию – и в христианской, и в исламской традициях это так. Согласно официальной советской логике, жертвы были оправданны – на них стояла мощь супердержавы. С точкой зрения самой жертвы никто тогда не считался. Тем более, испытания на полигоне были государственной тайной.
Немец Герольд, он же Гера, от души со всеми поет «Огней так много золотых на улицах Саратова…». В общем, живут – не тужат, все со всеми уживаются, даже свой соглядатай-доносчик в Дегелене имеется – ну а где их нет? В речах здесь все вольны – хотя и оглядываются, и голос понижают, знают – Система бдит, вон двоих шахматистов средь бела дня забрали и увезли, но все же главный тиран умер, и это чувствуется: Гере, к примеру, пришло разрешение на выезд в Германию всей семьей, на антисоветские брюзжания Исаака никто и внимания не обращает – что взять со старика? И вообще, кто в космос-то первым полетел? «Мы – советские! Наш человек в космосе!» – ликует-радуется безногий, а чумазая малышня (средь лиц – ни одного славянского) горланит песню «Хотят ли русские войны?». Войны никто не хочет, но военные приезжают и взрывов отменять не собираются, и русские лица здесь – исключительно военное начальство да медперсонал… На русском говорит практически весь аул, одни только старики мешают здесь казахские слова с русскими – для остальных это также естественно, как дышать. Мы ведь все становились советскими людьми, той самой единой исторической общностью. Мы в едином строю шли к великой цели…
Есть один план в фильме (подозреваю, что он взят из хроники тех лет, то есть это реальный документальный план), который в контексте авторского замысла представляется ключевым: с экрана прямо на нас, бессмысленно тупо смотрят овцы, специально оставленные в загоне во время испытаний бомбы. На безответной скотине испытывали смертоносную силу взрыва. Так и люди здесь. жители аула Дегелен, те же бессильные и беззащитные овечки, агнцы божьи, предназначенные на заклание. В отличие от четвероногих, они понимают, что стали материалом для экспериментов ученых вояк, но поскольку за теми стоит само Государство, протестовать и сопротивляться бесполезно. Самое большое, на что их хватает, – это прятаться да огрызаться, как загнанные собаки, и уповать на Бога.
Фильму предпослан эпиграф из Книги назиданий: «Ни один народ не исчезнет из-за вражды людей, забывших, что по роду своему все они братья и сестры. Не дано людям убить то, что создано Свыше». Весь строй картины, однако, говорит об обратном – еще как, оказывается, дано! Ведь мечта – построение рая на земле – вот-вот сбудется, новый вождь заявил, что следующее поколение наших людей будет жить при коммунизме. Для реализации такой мечты ничего не жаль. Уже весь мир, глядя на нас, убедился: мы действительно рождены, чтобы сказку сделать былью. На то мы и великий советский народ…
«Сотни тысяч людей своим благополучием обязаны регулярному жертвоприношению» – так вроде бы написано в старинной китайской «Книге обрядов». Но есть жертвоприношение – как сакральный акт и жертвоприношение – как насилие. Когда оно совершается по велению Бога и угодно ему, оно приносит мир и благословение, в противном же случае приводит к убийству и проклятию – и в христианской, и в исламской традициях это так. Согласно официальной советской логике, жертвы были оправданны – на них стояла мощь супердержавы. С точкой зрения самой жертвы никто тогда не считался. Тем более, испытания на полигоне были государственной тайной.
 Но времена меняются, все тайное неизбежно становится явным. Сказка оказалась кафкианской. Какие мысли и чувства обуревают ныне жертву, если она еще жива, догадаться не трудно… Послесловие к фильму – справка на фоне ядерного гриба – сообщает, что «то был 36-й по счету здесь взрыв и впереди Дегелен ждали еще 462 ядерных взрыва, мощь которых стерла бы с земли 1500 городов площадью Нагасаки и Хиросимы. Указом президента РК Н. Назарбаева полигон был закрыт в 1991 году. Но призрак смерти до сих пор бродит в этих местах». Дойдя до этих заключительных строк, понимаешь: одиннадцать лет как нет СССР – ни страны, ни власти той уже нет, а счета к ней предъявляться будут еще очень долго. Империя распалась, но боль – как и жажда справедливости – осталась. Люди не боги, чтобы прощать собственное убийство, впрочем, и боги не всем и не все ведь прощают…
Видимо, всему свой час. На смену кино советскому приходит кино национальное. Официальная история сменяется реальной. Нарымбетов стремится показать мир шестидесятых таким, каким он и был в восприятии большинства казахов. Режиссер входит в поток ушедшей жизни и старается не нарушить ее естественный ход своим присутствием, и это ему удается. Человеческое, слишком человеческое извлекает из исторического забвения Нарымбетов и бережно вставляет в рамку искусства, тем самым утверждая в правах это бытие и воспроизводя его. Атмосфера «наших» шестидесятых узнаваема каждым. Что до деталей – в реальном Дегелене (а он и поныне существует – точка сакральной географии страны) ни осликов, ни маковых полей, ни пирамидальных тополей, разумеется, как не было, так и нет: климат не тот. Упреки дотошных зрителей Нарымбетов понимает, но не принимает: в его родном Сузаке, что на юге Казахстана, в те годы тоже шли испытания, ему важна не точная копия оригинала, а правдивый его образ. Ведь он пишет Житие…
Мы следуем за его взглядом и вновь бредем за Лейлой все по тому же Дегелену. Кто это идет навстречу? Ба! Никак это Герольд с женой и дочкой?! Он самый! Говорит, что в Германии хорошо, а поди ж ты – вернулся! К счастью, «дом не продали, только флягу украли». А что это там бормочет старик Исаак? «Атлантиду потеряли? Потеряли! Вавилон своими руками разрушили. А теперь все хором за Иерусалим взялись! А в Иерусалиме места всем хватит!»
К чему это я? Вы догадались, отчего в Дегелене нет ни зимы, ни осени, все в зелени, хотя год уже прошел перед нашими глазами? Вы только вслушайтесь в молитву Лейлы. Может, для кого-то ее Дегелен мал, сир и убог, а для нее – это рай. Пусть неказистый и покореженный, но другого она не знает. Может, ее молитвами он и храним – ведь не живет село без праведника… И Иерусалим свой Исаак обрел здесь, Гера сюда же вернулся. В общем, рай – и точка.
Уместен, правда, вопрос: что же тогда ад? ведь хрестоматийное определение ада – это место страдания и наказания после смерти за совершенные грехи. За что дегеленцам определен ад еще при жизни? Может, им отказано в наличии души. Или нет у жителей этих мест права называться детьми человеческими? Похоже, что так. Но новейшая история человечества породила другую формулу: ад – это другие. Когда бесцеремонно и жестоко распоряжаются твоей жизнью, единственной, бесценной и неповторимой, твоей жизнью и жизнью твоего народа, твоей земли, смириться с этим, забыть и простить такое, вероятно, могут только святые или блаженные – вся человеческая история свидетельствует как раз об этом. «Молитва Лейлы» – фрагмент такой истории.
Но времена меняются, все тайное неизбежно становится явным. Сказка оказалась кафкианской. Какие мысли и чувства обуревают ныне жертву, если она еще жива, догадаться не трудно… Послесловие к фильму – справка на фоне ядерного гриба – сообщает, что «то был 36-й по счету здесь взрыв и впереди Дегелен ждали еще 462 ядерных взрыва, мощь которых стерла бы с земли 1500 городов площадью Нагасаки и Хиросимы. Указом президента РК Н. Назарбаева полигон был закрыт в 1991 году. Но призрак смерти до сих пор бродит в этих местах». Дойдя до этих заключительных строк, понимаешь: одиннадцать лет как нет СССР – ни страны, ни власти той уже нет, а счета к ней предъявляться будут еще очень долго. Империя распалась, но боль – как и жажда справедливости – осталась. Люди не боги, чтобы прощать собственное убийство, впрочем, и боги не всем и не все ведь прощают…
Видимо, всему свой час. На смену кино советскому приходит кино национальное. Официальная история сменяется реальной. Нарымбетов стремится показать мир шестидесятых таким, каким он и был в восприятии большинства казахов. Режиссер входит в поток ушедшей жизни и старается не нарушить ее естественный ход своим присутствием, и это ему удается. Человеческое, слишком человеческое извлекает из исторического забвения Нарымбетов и бережно вставляет в рамку искусства, тем самым утверждая в правах это бытие и воспроизводя его. Атмосфера «наших» шестидесятых узнаваема каждым. Что до деталей – в реальном Дегелене (а он и поныне существует – точка сакральной географии страны) ни осликов, ни маковых полей, ни пирамидальных тополей, разумеется, как не было, так и нет: климат не тот. Упреки дотошных зрителей Нарымбетов понимает, но не принимает: в его родном Сузаке, что на юге Казахстана, в те годы тоже шли испытания, ему важна не точная копия оригинала, а правдивый его образ. Ведь он пишет Житие…
Мы следуем за его взглядом и вновь бредем за Лейлой все по тому же Дегелену. Кто это идет навстречу? Ба! Никак это Герольд с женой и дочкой?! Он самый! Говорит, что в Германии хорошо, а поди ж ты – вернулся! К счастью, «дом не продали, только флягу украли». А что это там бормочет старик Исаак? «Атлантиду потеряли? Потеряли! Вавилон своими руками разрушили. А теперь все хором за Иерусалим взялись! А в Иерусалиме места всем хватит!»
К чему это я? Вы догадались, отчего в Дегелене нет ни зимы, ни осени, все в зелени, хотя год уже прошел перед нашими глазами? Вы только вслушайтесь в молитву Лейлы. Может, для кого-то ее Дегелен мал, сир и убог, а для нее – это рай. Пусть неказистый и покореженный, но другого она не знает. Может, ее молитвами он и храним – ведь не живет село без праведника… И Иерусалим свой Исаак обрел здесь, Гера сюда же вернулся. В общем, рай – и точка.
Уместен, правда, вопрос: что же тогда ад? ведь хрестоматийное определение ада – это место страдания и наказания после смерти за совершенные грехи. За что дегеленцам определен ад еще при жизни? Может, им отказано в наличии души. Или нет у жителей этих мест права называться детьми человеческими? Похоже, что так. Но новейшая история человечества породила другую формулу: ад – это другие. Когда бесцеремонно и жестоко распоряжаются твоей жизнью, единственной, бесценной и неповторимой, твоей жизнью и жизнью твоего народа, твоей земли, смириться с этим, забыть и простить такое, вероятно, могут только святые или блаженные – вся человеческая история свидетельствует как раз об этом. «Молитва Лейлы» – фрагмент такой истории.
_2byh.jpg) Нарымбетов своими фильмами возвращает отечество из советского небытия – его картины восполняют пробелы в нашем драматическом прошлом. Пафос нынешнего его творчества, пожалуй, заключается в простой фразе: вспомнить все… Это тяжелое испытание. Вспоминая, заново переживаешь случившееся, и горечь непрощаемых обид требует всплеска. Кто виноват – вроде бы ясно. Показано и доказано. А что делать – непонятно. Насилие всегда рождает ответную агрессию, круг этот вечен, как сам мир: «Мне отмщенье, и Аз воздам». Как выйти из этого круга? В христианской традиции все победить может только любовь – как милость и благодать. В мусульманской традиции – спасение в знании, которое трансформируется в понимание ответственности за свою позицию. Но в нынешних реалиях, когда религиозно-культурные традиции утрачены, а рефлексия продолжается, отчетливо понимаешь одно: ад – это уже мы сами. Вот если бы, осознавая это, переплавить в творчество боль, страдания и память тех лет, – вот было бы кино… Но, вероятно, для этого нужна безопасная дистанция – прививка советского все еще действует…
Нарымбетов своими фильмами возвращает отечество из советского небытия – его картины восполняют пробелы в нашем драматическом прошлом. Пафос нынешнего его творчества, пожалуй, заключается в простой фразе: вспомнить все… Это тяжелое испытание. Вспоминая, заново переживаешь случившееся, и горечь непрощаемых обид требует всплеска. Кто виноват – вроде бы ясно. Показано и доказано. А что делать – непонятно. Насилие всегда рождает ответную агрессию, круг этот вечен, как сам мир: «Мне отмщенье, и Аз воздам». Как выйти из этого круга? В христианской традиции все победить может только любовь – как милость и благодать. В мусульманской традиции – спасение в знании, которое трансформируется в понимание ответственности за свою позицию. Но в нынешних реалиях, когда религиозно-культурные традиции утрачены, а рефлексия продолжается, отчетливо понимаешь одно: ад – это уже мы сами. Вот если бы, осознавая это, переплавить в творчество боль, страдания и память тех лет, – вот было бы кино… Но, вероятно, для этого нужна безопасная дистанция – прививка советского все еще действует…
Асия Байгожина
«Кинофорум», Москва, №2, июль 2003


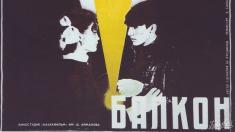




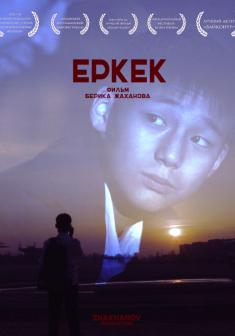


Нет комментариев, оставьте первый
, чтобы оставить комментарий